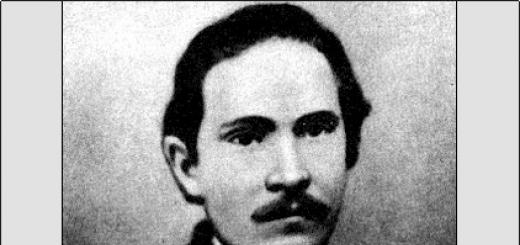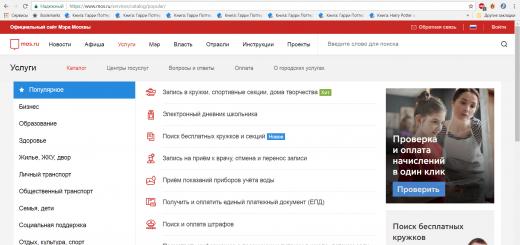Кто создан из камня, кто создан из глины,-
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело — измена, мне имя — Марина,
Я — бренная пена морская.
Кто создан из глины, кто создан из плоти —
Тем гроб и нагробные плиты…
— В купели морской крещена — и в полете
Своем — непрестанно разбита!
Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети
Пробьется мое своеволье.
Меня — видишь кудри беспутные эти?-
Земною не сделаешь солью.
Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной — воскресаю!
Да здравствует пена — веселая пена —
Высокая пена морская!
Анализ стихотворения «Кто создан из камня, кто создан из глины» Цветаевой
М. Цветаева еще до революции остро ощущала свое одиночество и отличие от окружающих людей. Это чувство значительно усилилось после установления советской власти. Поэтесса не признавалась новым режимом, ее произведения подвергались жесткой критике и не печатались. К этим трудностям добавились трагедии в личной жизни. Цветаеву покидает муж, отправившийся в эмиграцию. Через некоторое время у нее умирает дочь. Такая ситуация способна довести до отчаяния любого человека, но поэтесса находит в себе силы. В 1920 г. он создает жизнеутверждающее стихотворение «Кто создан из камня, кто создан из глины…»
В основу стихотворения поэтесса положила значение своего имени (Марина – с лат. «морская»). Она использует сравнение двух основных мировых стихий: земли и воды. Называя себя «бренной пеной морской», Цветаева противопоставляет ее камню и глине, олицетворяющими землю. Она не случайно выбрала эти образы. Согласно двум основным мировым религиям (христианство и мусульманство) творец создал первого человека из глины. Эти представления связаны с податливостью материала, с возможностью придания ему любой формы. Но застывшая и обожженная глина становится подобна камню, ее уже нельзя изменить. Камень вечен, он теряет всякую одухотворенность. В произведении содержится прямая аналогия – «могильная плита».
Себя поэтесса связывает со стихией воды, которая находится в постоянном движении и изменении. Она не имеет законченной формы. Возможно, Цветаева сравнивает себя с Афродитой, которая по легенде была рождена из морской пены. По крайней мере, она приписывает себе некоторые качества любвеобильной богини: «измена», «своеволье», «кудри беспутные».
Поэтесса дерзко отвечает всем своим недоброжелателям, что ее невозможно сломать или уничтожить. Вода способна преодолеть любую преграду, так как продолжает жизнь с каждой новой волной. Столкновение воды с камнем символизирует противостояние Цветаевой с жестким политическим режимом. Другой вариант – свой изменчивый и веселый характер поэтесса сравнивает с человеческой черствостью и равнодушием.
Неизвестно, была ли до конца искренна Цветаева в этом стихотворении. Возможно, это – отчаянный самообман измученной души. Дальнейшая трагическая судьба и самоубийство подтверждают, что и вода может покориться непреодолимой силе. Однако в свое время произведение бесспорно вызвало ярость в тех, кто считал поэтессу уже окончательно сломленным и утратившим веру в жизнь человеком.
На уроках литературы в 10 классе изучается творчество Марины Цветаевой. В данной статье вы можете ознакомится с полным и кратким анализом “Кто создан из камня” по плану.
Краткий анализ
История создания – стихотворение вошло в сборник вёрсты, вышедший в 1922 году, написано оно было в 1920 году – самом тяжёлом году в судьбе Цветаевой. Личные трагедии и творческий кризис не сломили поэта, она создала оптимистическое произведение, провозгласившее победу и торжество таланта.
Тема – поэт и толпа, непонимание, отверженность и вместе с тем избранность и величие творящих бессмертное искусство.
Композиция – четыре строфы, объединённые монологом лирической героини.
Жанр – лирическое стихотворение, напоминающее оду творческому свободному человеку, самой себе.
Стихотворный размер – амфибрахий, придающий плавное, ритмичное звучание лирическому произведению Цветаевой.
Эпитеты – “кудри беспутные”, “весёлая пена”, “бренная пена”.
Метафора – “гранитные колени”, “пена морская”.
Фразеологизм – земная соль , означающий избранность, превосходство в обычной жизни.
История создания
Стихотворение “Кто создан из камня” написано Мариной Цветаевой в тяжёлые годы, когда её стихи были запрещены, не печатались, а личные драмы шли одна за одной. Не прошло и месяца, как умерла от голода её трёхлетняя дочь, муж пропал в эмиграции, от него не было известий. Сама поэтесса находилась в тяжёлом материальном положении, однако старалась держаться на зло режиму, завистникам и недругам. Стихотворение датируется 23 мая 1920 года, входит в сборник “Вёрсты”, относится к циклу Н. Н. В. (Николай Николаевич Вышеславцев). Художник – портретист Вышеславцев был дружен с Мариной Цветаевой, она – увлечена им. К слову, увлечение скоро сменилось разочарованием. Сборник “Вёрсты” был издан в 1922 году небольшим тиражом. Стоит отметить, что образ моря, как и сама стихия, были очень близки Цветаевой, она любила море, так же, как А.С. Пушкин.
Тема
Тема – поэта и толпы, обособленности, избранности творческой личности. Для Цветаевой это одна из любимых тем, к которой она возвращается на всех этапах своей творческой карьеры. Лирический герой размышляет о судьбе и воле каждого человека. Себя она ставит обособленно от рядовых людей, которые “окаменели” или прогнулись, приспособились (именно это имеется в виду, когда поэт говорит о людях из глины). Это произведение проникнуто оптимизмом и верой в будущее. Озорной, весёлый характер цветаевского стиха, самовозвеличивание – не что иное, как завеса от боли и страданий, которые выпали на долю Марины Ивановны. Она пророчит своё бессмертие в стихах, в таланте, который является залогом её воскрешения. Ярким и своеобразным видится читателю образ “морской пены” (символизирующей поэтессу), которая “серебрится и сверкает” . Непринуждённой и лёгкой кажется внешняя сторона её жизни, именно этого и добивался автор. Торжествуя над толпой завистников и предателей, она утверждает своё поэтическое величие и личное свободное, безмятежное существование. Она хотела, чтобы именно такой видели её недруги, и, несмотря на боль и множество испытаний, её поэтическое предсказание сбылось.
Композиция
Композиция – четыре строфы (по четыре стиха в каждой). Две первые строфы начинаются одинаково “ Кто создан из… “. Эта анафора роднит стихотворение с песенным жанром, создаёт эффект волн, которые набегают на берег, исчезают, придают звучанию ритмичность. В первом четверостишии происходит своеобразное знакомство: лирическая героиня представляется, раскрывает свою сущность. Все последующие строфы содержат противопоставления в системе “поэт – толпа”. В последнем четверостишие поэт восклицает, провозглашая торжество своей внутренней бушующей стихии моря – бесконечно свободной, неподвластной времени и людским законам.
Жанр
Лирическое стихотворение. Оно напоминает оду, возвеличивающую значимость поэта, его творчества. Стихотворный размер – амфибрахий, придающий плавное, ритмичное звучание лирическому произведению Цветаевой. Аллитерацией сопровождается практически каждая строка стихотворения, создаётся эффект волн, текучести, плавности, брызг.
Средства выразительности
Эпитеты : кудри беспутные, весёлая пена, бренная пена.
Метафора : гранитные колени, пена морская.
Антитеза : гробы и надгробные плиты предназначенные тем, кто “из плоти”, обывателям, духовно нищим людям противопоставляются весёлой беззаботной волне, морской пене (имя Марина имеет значение “морская”), которая не исчезает и не погибает, а пробивается “сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети”.
Тест по стихотворению
Рейтинг анализа
Средняя оценка: 4.7 . Всего получено оценок: 18.
«Кто создан из камня, кто создан из глины...»
В стихотворении «Кто создан из камня, кто создан из глины...» М.И. Цветаева расшифровывает значение собственного имени. Имя «Марина» имеет значение «морская». Оно гармонично соответствует темпераменту цветаевской лирической героини, ее подвижности, энергичности и своеволию, которым она так гордится. Главной в стихотворении становится идея самовыражения, воплощения неутомимой жизненной энергии, с которой лирическая героиня бросает в море жизни. М.И. Цветаева создает образ неукротимой стихии, которая бушует не только в реальности, но и в сердце лирической героини. Героиня уподобляется серебрящейся морской пене. Она в буквальном смысле сливается с ней, испытывая чувство гармоничного единения с миром морской стихии. Беспутному своеволию морской купели в стихотворении противопоставлены земная соль, надгробные плиты, гранитные колена - статичные, приземленные образы.
В стихотворении важную художественную функцию выполняет звукопись. Это прежде всего причудливые переливы аллитерационных цепочек («Серебрюсь и сверкаю» (аллитерации «с», «р»), «Мне дело - измена, мне имя - Марина» (аллитерация «м»), «Я с каждой волной - воскресаю! Да здравствует пена - веселая пена - Высокая пена морская» (аллитерация «в»)).
Кроме того, в стихотворении довольно много различных повторов.
Основным изобразительно-выразительным средством становится метафора, благодаря которой содержание произведеия воспринимается в двух образных планах. Во-первых, перед глазами читателя возникает поэтичная картина морского побережья с ритмичным накатом пенящихся волн. Во-вторых, становится понятной мятежная душа лирической героини, переменчивая и своевольная. Морская стихия помогает ей возрождаться в пучине житейских испытаний. Стихотворение овеяно оптимистическим пафосом, духом бунтарства и свободомыслия, творческим стремлением к созиданию. Тематически произведение перекликается со стихотворением «Душа и имя», в котором М.И. Цветаева также упоминает о связях имени с морской стихией. Впоследствии она несколько переосмыслила свое отношение к образу моря. В произведении «Мой Пушкин» М.И. Цветаева писала: «...Безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась - прозрением: «свободная стихия» оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются никогда»
*** «Я – бренная пена морская»
31 мая 1912 года в Москве был открыт Музей изящных искусств. Кинохроника тех лет сохранила, как после церемонии государь Николай II с семьёй спускаются к автомобилю. В шитом золотом мундире почётного опекуна его сопровождает Иван Владимирович Цветаев – профессор, филолог, искусствовед, создатель и первый директор Музея имени императора Александра III при Московском императорском университете. 24 года тому назад у профессора не было ни денег, ни земли, ни дорогостоящих произведений искусства – начинать нужно было с нуля, но ему, одержимому благородной идеей, всё удалось. «Наш гигантский младший брат», – величали Музей дочери Ивана Владимировича Марина и Анастасия.
Старшей – Марине – к тому времени было неполных 20 лет, младшей Анастасии – 18. Обе читали стихи в унисон и принимали участие в студиях символистов.
Мы быстры и наготове,
Мы остры.
В каждом жесте, в каждом взгляде, в каждом слове. –
Две сестры.
Своенравна наша ласка
И тонка,
Мы из старого Дамаска -
Два клинка.
Прочь, гумно и бремя хлеба,
И волы!
Мы – натянутые в небо
Две стрелы!
Мы одни на рынке мира
Без греха.
Мы – из Вильяма Шекспира
Два стиха.
«Во многом непонятны мы, дети рубежа, – говорил о своём поколении Андрей Белый: – мы ни “конец” века, ни “начало” нового, а – схватка столетий в душе; мы – ножницы меж столетьями; нас надо брать в проблеме ножниц, сознавши: ни в критериях “старого”, ни в критериях “нового” нас не объяснишь». (А. Белый. «На рубеже двух столетий». С. 180).
Обе сестры были замужем: Анастасия – за студентом Борисом Трухачёвым, Марина – за студентом историко-филологического факультета Сергеем Эфроном. В августе того же года у Анастасии родился сын Андрей, в сентябре у Марины – дочь Ариадна.
Кто создан из камня, кто создан из глины, –
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.
Кто создан из глины, кто создан из плоти –
Тем гроб и надгробные плиты…
– В купели морской крещена – и в полёте
Своём – непрестанно разбита!
Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети
Пробьётся моё своеволье.
Меня – видишь кудри беспутные эти? –
Земною не сделаешь солью.
Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной – воскресаю!
Да здравствует пена – весёлая пена –
Высокая пена морская!
Обе – «последнее виденье королей» – писали стихи.
Марина уже выпустила книжку «Вечерний альбом» и подготовила к печати вторую – «Волшебный фонарь». Её поэтический дар привлёк внимание В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва.
«Марина Цветаева (книга “Вечерний альбом”) внутренне талантлива, внутренне своеобразна, – писал Н. С. Гумилёв в сдвоенном номере № 4–5 «Аполлона» за 1911 год. – Пусть её книга посвящается “блестящей памяти Марии Башкирцевой”, эпиграф взят из Ростана, слово “мама” почти не сходит со страниц. Всё это наводит только на мысль о юности поэтессы, что и подтверждается её собственными строчками-признаниями. Многое ново в этой книге: нова смелая (иногда чрезмерно) интимность; новы темы, например, детская влюблённость; ново непосредственное, безумное любование пустяками жизни. И, как и надо было думать, здесь инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии, так что эта книга – не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов» («Письма о русской поэзии». С. 121).
Декабрьская сказка
Мы слишком молоды, чтобы простить
Тому, кто в нас развеял чары.
Но, чтоб о нём, ушедшем, не грустить,
Мы слишком стары!
Был замок розовый, как зимняя заря,
Как мир – большой, как ветер – древний.
Мы были дочери почти царя,
Почти царевны.
Отец – волшебник был, седой и злой;
Мы, рассердясь, его сковали;
По вечерам, склоняясь над золой,
Мы колдовали;
Оленя быстрого из рога пили кровь,
Сердца разглядывали в лупы…
А тот, кто верить мог, что есть любовь,
Казался глупый.
Однажды вечером пришёл из тьмы
Печальный принц в одежде серой.
Он говорил без веры, ах, а мы
Внимали с верой.
Рассвет декабрьский глядел в окно,
Алели робким светом дали…
Ему спалось и было всё равно,
Что мы страдали!
Мы слишком молоды, чтобы забыть
Того, кто в нас развеял чары.
Но, чтоб опять так нежно полюбить –
Мы слишком стары!
В № 2 «Русской мысли» за 1911 год в статье под названием «Новые сборники стихов» мэтр символизма В. Я. Брюсов сообщал:
«Довольно резкую противоположность И. Эренбургу представляет Марина Цветаева. Эренбург постоянно вращается в условном мире, созданном им самим, в мире рыцарей, капелланов, трубадуров, турниров; охотнее говорит не о тех чувствах, которые действительно пережил, но о тех, которые ему хотелось бы пережить. Стихи Марины Цветаевой, напротив, всегда отправляются от какого-нибудь реального факта, от чего-нибудь действительно пережитого. Не боясь вводить в поэзию повседневность, она берёт непосредственно черты жизни, и это придаёт её стихам жуткую интимность. Когда читаешь её книгу, минутами становится неловко, словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру и подсмотрел сцену, видеть которую не должны бы посторонние. Однако эта непосредственность, привлекательная в более удачных пьесах, переходит на многих страницах толстого сборника в какую-то “домашность”. Получаются уже не поэтические создания (плохие или хорошие, другой вопрос), но просто страницы личного дневника и притом страницы довольно пресные. Последнее объясняется молодостью автора, который несколько раз указывает на свой возраст.
Покуда
Вся жизнь как книга для меня,
– говорит в одном месте Марина Цветаева; в другом, она свой стих определяет эпитетом “невзрослый”; ещё где-то прямо говорит о своих “восемнадцати годах”. Эти признания обезоруживают критику. Но, если в следующих книгах г-жи Цветаевой вновь появятся те же её любимые герои – мама, Володя, Серёжа, маленькая Аня, маленькая Валенька, – и те же любимые места действия – тёмная гостиная, растаявший каток, столовая четыре раза в день, оживлённый Арбат и т. п., мы будем надеяться, что они станут синтетическими образами, символами общечеловеческого, а не просто беглыми портретами родных и знакомых и воспоминаниями о своей квартире. Мы будем также ждать, что поэт найдёт в своей душе чувства более острые, чем те милые пустяки, которые занимают так много места в “Вечернем альбоме”, и мысли более нужные, чем повторение старой истины: “надменность фарисея ненавистна”. Несомненно талантливая, Марина Цветаева может дать нам настоящую поэзию интимной жизни и может, при той лёгкости, с какой она, как кажется, пишет стихи, растратить всё своё дарование на ненужные, хотя бы и изящные безделушки».
(В. Я. Брюсов. «Стихи 1911 года». С. 365–366).
Похвальные напутствия мэтра символизма, между тем, чт; они могли значить для отроковицы, только что обретшей поэтический голос? Её «Вечерний альбом» – «так вчувствовывается в кровь отрок – доселе лотос»: никакой синтетики в пику домашности очага, ничего эпохального, символического в пику тёмной гостиной, катанию на коньках и – Арбату.
На критику В. Я. Брюсова Марина Цветаева отвечала полемическими стихотворениями в сборниках «Волшебный фонарь» и «Из двух книг» (1913):
В. Я. Брюсову
Улыбнись в моё «окно»,
Иль к шутам меня причисли, –
Не изменишь, всё равно!
«Острых чувств» и «нужных мыслей»
Мне от Бога не дано.
Нужно петь, что всё темно,
Что над миром сны нависли…
– Так теперь заведено. –
Этих чувств и этих мыслей
Мне от Бога не дано!
Премированный щенок
«Il faut а chacun donner son joujou».
E. Rostand
Был сочельник 1911 г. – московский, метельный, со звёздами в глазах и на глазах. Утром того дня я узнала от Сергея Яковлевича Эфрона, за которого вскоре вышла замуж, что Брюсовым объявлен конкурс на следующие две строки Пушкина:
Но Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах.
– Вот бы Вам взять приз – забавно! Представляю себе умиление Брюсова! Допустим, что Брюсов – Сальери, знаете, кто его Моцарт?
– Бальмонт?
– Пушкин!
Приз, данный мне Брюсовым за стихи, представленные в последний час последнего дня (предельный срок был Сочельник) – идея была соблазнительной! Но – стих на тему! Стих – по заказу! Стих – по мановению Брюсова! И второй камень преткновения, острейший, – я совсем не знала, кто Эдмонда, мужчина или женщина, друг или подруга. Если родительный падеж: кого-чего? – то Эдмонд выходил мужчиной, и Дженни его не покинет, если же именительный падеж: кто-что? – то Эдмонда – женщина и не покинет свою подругу Дженни. Камень устранился легко. Кто-то, рассмеявшись и не поверив моему невежеству, раскрыл мне Пушкина на “Пире во время чумы” и удостоверил мужественность Эдмонда. Но время было упущено: над Москвой, в звёздах и хлопьях, оползал Сочельник.
К темноте, перед самым зажжением ёлок, я стояла на углу Арбатской площади и передавала седому посыльному в красной шапке конверт, в котором ещё конверт, в котором ещё конверт. На внешнем был адрес Брюсова, на втором (со стихами) девиз (конкурс был тайный, с обнаружением автора лишь по присуждении приза), на третьем – тот же девиз; с пометкой: имя и адрес. Нечто вроде моря-окияна, острова Буяна и Кащеевой смерти в яйце. “Письмецо” я Брюсову посылала на дом, на Цветной бульвар, в виде подарка на ёлку.
Каков же был девиз? Из Ростана, конечно:
Il faut а chacun donner son joujou
E. Rostand
Каков же был стих? Не на тему, конечно, стих, написанный вовсе не на Эдмонда, за полгода до, своему Эдмонду, стих не только не на тему, а обратный ей и, обратностью своей, подошедший.
Вот он:
«Но Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах».
Я о земном заплачу и в раю,
Я старых слов при нашей новой встрече
Не утаю.
Где сонмы ангелов летают стройно,
Где арфы, лилии и детский хор,
Где всё - покой, я буду беспокойно
Ловить твой взор.
Виденья райские с усмешкой провожая,
Одна в кругу невинно-строгих дев,
Я буду петь, земная и чужая,
Земной напев!
Воспоминанье слишком давит плечи,
Настанет миг - я слёз не утаю…
Ни здесь, ни там - нигде не надо встречи,
И не для встреч проснёмся мы в раю!
_______________
Стих этот я взяла из уже набиравшегося тогда “Волшебного фонаря”, вышедшего раньше выдачи, но уже после присуждения премий. («Волшебный фонарь», с. 75.)
С месяц спустя – я только что вышла замуж – как-то заходим с мужем к издателю Кожебаткину.
– Поздравляю Вас, Марина Ивановна!
Я, думая о замужестве:
– Спасибо.
– Вы взяли первый приз, но Брюсов, узнав, что это вы, решил вам, за молодостью, присудить первый из двух вторых.
Я рассмеялась.
Получать призы нужно было в “О-ве Свободной Эстетики”. Подробности стёрлись. Помню только, что когда Брюсов объявил: “Первого не получил никто, первый же из двух вторых – г-жа Цветаева”, – по залу прошло недоумение, а по моему лицу усмешка. Затем читались, кажется Брюсовым же, стихи, после “премированных” (Ходасевич, Рафалович, я) – “удостоившиеся одобрения”, не помню чьи. Выдача самих призов производилась не на эстраде, а у входного столика, за которым что-то вписывала и выписывала милая, застенчивая, всегда всё по возможности сглаживавшая и так выигрывавшая на фоне брюсовской жёсткости – жена его, Жанна Матвеевна.
Приз – именной золотой жетон с чёрным Пегасом – непосредственно Брюсовым – из руки в руку – вручён. Хотя не в рукопожатии, но руки встретились! И я, продевая его сквозь цепочку браслета, громко и весело:
– Значит, я теперь – премированный щенок?
Ответный смех залы и – добрая – внезапная – волчья – улыбка Брюсова. “Улыбка” – условность, просто внезапное обнаружение и такое же исчезновение зубов. Не улыбка? Улыбка! Только не наша, волчья. (Оскал, осклаб, ощер.)
Тут я впервые догадалась, что Брюсов – волк.
(М. Цветаева. «Герой труда». С. 27–29)
В. Я. Брюсову
Я забыла, что сердце в вас – только ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!
Что поэзия ваша из книг
И из зависти – критика. Ранний старик,
Вы опять мне на миг
Показались великим поэтом…
Первым приветил юное дарование «странник вечный в пути бесконечном» Максимилиан Волошин. В декабре 1910 года в газете «Утро России» появилась его статья «Женская поэзия» с сопоставлением стихов семнадцатилетней московской гимназистки с творчеством известных в то время поэтесс (Любовь Столицы, Аделаиды Герцык и др.). Верх одержала гимназистка: «“Невзрослый” стих Марины Цветаевой, иногда неуверенный в себе и ломающийся, как детский голос, умеет передать оттенки, недоступные стиху более взрослому. Чувствуешь, что этому невзрослому стиху доступно многое, о чём нам, взрослым, мечтать нечего».
– Вся статья, – вспоминала М. Цветаева, – самый беззаветный гимн женскому творчеству и семнадцатилетью.
«Женщина сама не творит языка, и поэтому в те эпохи, когда идёт творчество элементов речи, она безмолвствует. Но когда язык создан, она может выразить на нём и найти слова для оттенков менее уловимых, чем способен на это мужчина. Женская лирика глубже. Но она менее индивидуальна. Это гораздо больше лирика рода, а не лирика личности. Значительность поэзии названных мною поэтесс придаёт то, что каждая из них говорит не только за самоё себя, но и за великое множество женщин, каждая является голосом одного из подводных течений, одухотворяющих стихию женского, голосом женственной глубины». (М. А. Волошин. «Женская поэзия»).
В свой первый визит в Трёхпрудный переулок к Цветаевым Макс попросил Марину снять чепец и очки, – художник! – ему не терпелось видеть форму головы:
– Голова, ведь это – у поэта – главное!..
Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я – поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,
Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
– Нечитанным стихам!
Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берёт,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черёд.
Потом была беседа о Париже, Ростане, Наполеоне Первом, Втором, Саре Бернар: они ведь жили этим.
– А Бодлера вы никогда не любили? А Артюра Рембо – знаете?
– Знаю, не любила, никогда не буду любить, люблю только Ростана и Наполеона I и Наполеона II – и какое горе, что я не мужчина и не тогда жила, чтобы пойти с Первым на св. Елену и с Вторым в Шенбрунн.
– А вы знаете, сколько мы с вами пробеседовали? Пять часов, я пришёл в два, а теперь семь. Я скоро опять приду.
«Коробейник идей» уходит.
Пустая передняя, скрип парадного, скрип мостков под шагами, калитка…
– Когда вы любите человека, – расскажет она в «Современных записках» (Париж. 1933. № 52–53), – вам всегда хочется, чтобы он ушёл, чтобы о нём помечтать.
Живое о живом
Через день письмо, открываю: стихи:
К вам душа так радостно влекома!
О, какая веет благодать
От страниц Вечернего Альбома!
(Почему альбом, а не тетрадь?)
Отчего скрывает чепчик чёрный
Чистый лоб, а на глазах очки?
Я отметил только взгляд покорный
И младенческий овал щеки.
Я лежу сегодня - невралгия,
Боль, как тихая виолончель…
Ваших слов касания благие
И стихи, крылатый взмах качель,
Убаюкивают боль: скитальцы,
Мы живём для трепета тоски…
В темноте мне трогают виски?
Ваша книга - это весть оттуда,
Утренняя благостная весть.
Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко слышать: чудо - есть!
Разрываясь от восторга (первые хорошие стихи за жизнь, посвящали много, но плохие) и только с большим трудом забирая в себя улыбку, – домашним, конечно, ни слова! – к концу дня иду к своей единственной приятельнице, старшей меня на двадцать лет и которой я уже, естественно, рассказала первую встречу. Ещё в передней молча протягиваю стихи.
Читает:
– «К вам душа так радостно влекома – О, какая веет благодать – От страниц Вечернего Альбома – Почему альбом, а не тетрадь?»
Прерывая:
– Почему – альбом? На это вы ему ответите, что в тетрадку вы пишете в гимназии, а в альбом – дома. У нас в Смольном у всех были альбомы для стихов.
Почему скрывает чепчик чёрный
Чистый лоб, а на глазах – очки?
А, вот видите, он тоже заметил и, действительно, странно: такая молодая девушка, и вдруг в чепце! (Впрочем, бритая было бы ещё хуже!) И эти ужасные очки! Я всегда вам говорила… – «Я отметил только взгляд покорный и младенческий овал щеки». – А вот это очень хорошо! Младенческий! То есть на редкость младенческий! «Я лежу сегодня – невралгия – Боль как тихая виолончель – Ваших слов касания благие – И стихи, крылатый взмах качель – Убаюкивают боль. Скитальцы, – Мы живём для трепета тоски…» – Да! Вот именно для трепета тоски! (И вдруг, от слога к слогу всё более и более омрачневая и на последнем, как туча):
Чьи прохладно-ласковые пальцы
В темноте мне трогают виски?
Ну вот видите – пальцы… Фу, какая гадость! Я говорю вам: он просто пользуется, что вашего отца нет дома… Это всегда так начинается: пальцы… Мой друг, верните ему это письмо с подчёркнутыми строками и припишите: «Я из порядочного дома и вообще…» Он всё-таки должен знать, что вы дочь вашего отца… Вот что значит расти без матери! А вы (заминка), может быть, действительно, от избытка чувств, в полной невинности, погладили его… по… виску? Предупреждаю вас, что они этого совсем не понимают, совсем не так понимают.
– Но – во-первых, я его не гладила, а во-вторых, – если бы даже – он поэт!
– Тем хуже. В меня тоже был влюблён один поэт, так его пришлось – Юлию Сергеевичу – сбросить с лестницы.
Так и ушла с этим неуютным видением будущего: массивного Максимилиана Волошина, летящего с нашей узкой мезонинной лестницы – к нам же в залу.
(М. Цветаева. «Живое о живом». С. 165–167)
Максу Волошину
Они приходят к нам, когда
У нас в глазах не видно боли.
Но боль пришла – их нету боле:
В кошачьем сердце нет стыда!
Смешно, не правда ли, поэт,
Их обучать домашней роли.
Они бегут от рабской доли:
В кошачьем сердце рабства нет!
Как ни мани, как ни зови,
Как ни балуй в уютной холе,
Единый миг – они на воле:
В кошачьем сердце нет любви!
– Голос – самое пленительное и неуловимое в человеке, – считал М. А. Волошин:
«Голос – это внутренний слепок души.
У каждой души есть свой основной тон, а у голоса – основная интонация. Неуловимость этой интонации, невозможность её ухватить, закрепить, описать составляют обаяние голоса».
В поэзии А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама, С. Парнок, признавал «зевсоподобный гигант» Коктебеля, слияние стиха и голоса зазвучало непринуждённо и свободно: «В их стихах всё стало голосом. Всё их обаяние только в голосе. Почти всё равно, какие слова будут они произносить, так хочется прислушиваться к самым звукам их голосов, настолько свежих и новых в своей интимности» (М. А. Волошин. «Голоса поэтов». С. 545).
В Коктебеле в доме М. А. Волошина М. И. Цветаева гостила в 1911-м, 13-м, 15-м и 17-х годах. Стихи из новой книги стихов «Вёрсты», «так непохожей на её первые полудетские книги», звучали в его ушах задолго до выхода их в свет в 1922-м.
– Марина Цветаева: то голос разумного дитя, то мальчишески ломающийся и дерзкий, то с глубоко национальными и длинными бабьими нотами (М. А. Волошин. «Голоса поэтов». С. 770).
И вот, навьючив на верблюжий горб,
На добрый – стопудовую заботу,
Отправимся – верблюд смирен и горд –
Справлять неисправимую работу.
Под тёмной тяжестью верблюжьих тел –
Мечтать о Ниле, радоваться луже,
Как господин и как Господь велел –
Нести свой крест по-божьи, по-верблюжьи.
И будут в зареве пустынных зорь
Горбы – болеть, купцы – гадать: откуда,
Какая это вдруг напала хворь
На доброго, покорного верблюда?
Но, ни единым взглядом не моля,
Вперёд, вперёд, с сожжёнными губами,
Пока Обетованная земля
Большим горбом не встанет над горбами.
В августе 1909-го с переводчиком Бодлера, страстным символистом, «разбросанным поэтом» Львом Львовичем Кобылинским (Эллисом) (1879–1947) случился инцидент. Его поймали с поличным – вырезанием страниц из библиотечных книг. Чт; это были за книги и чт; из них вырезал Эллис, любитель марать поля дождём восклицательных знаков и карандашными вставками, его друг и сподвижник Андрей Белый описывал так:
«Он испортил вырезками страницу в моей книге “Северная симфония” и страницу в моей же книге “Кубок метелей”; служитель музея случайно увидел, как он вырезывал; и когда ушёл Эллис, по обычаю оставляя портфель работы, со всеми вырезками, то служитель отнёс портфель к заведующему читальным залом, фанатику-книгоману, Кваскову; Эллису сделали строжайший выговор: конечно, за неряшество, а не за воровство; и лишили права его работать в музее. Квасков с возмущением рассказывал об этом факте; пронюхал какой-то газетчик; враги “Весов” вздули до ужаса инцидент; неряшество окрестили именем кражи; можно было подумать, читая газеты, что Эллис годами, систематически, выкрадывал ценные рукописи. Министр Кассо, прочитав заметку о “краже” в музее, воспользовался этим случаем, чтобы спихнуть с места директора, профессора Цветаева (у них были счёты); он требовал: дать делу ход.
Теперь о Цветаеве: этот последний питал к Эллису ненависть; Эллис являлся почти каждый день на квартиру его – проповедовать Марине и Асе, его дочерям, символизм; и папаша был в ужасе от влияния этого “декадента” на них, – тем более, что они развивали левейшие устремленья для этого косного октябриста: они называли себя тогда анархистками; в представленьи профессора, Эллис питал их тенденции: ни в грош не ставить папашу. С другой стороны: дама, в которую папаша влюбился, по уши была влюблена в Эллиса; и здесь и там – торчал на дороге профессора “декадент”; оскорбленье своё он и выместил как директор Румянцевского музея. И кроме всего: он желал выкрутиться перед его не любившим министром; он потребовал строжайшего расследования с тенденцией обвинить Эллиса.
Результат осмотра книг, читанных Эллисом в музее (за многие годы), был убийственен для Цветаева: кроме двух страниц, вырезанных из “Симфоний” на виду у служителей, с оставленьем им на руки своего портфеля (вместо того, чтобы унести портфель с “уворованным”), – никаких следов “воровства”, которого и в замысле не было; Эллису ль “воровать”, когда его обворовывали редакции нищенским гонораром, когда он всю жизнь обворовывал сам себя отдаванием первому встречному своего гонорара и после сидел без обеда. Пришлось же позднее Нилендеру отнимать у Эллиса деньги, чтобы их ему сохранить на обеды.
И этого человека “маститый” профессор Цветаев хотел объявить злостным вором.
Личная месть и угодничество перед Кассо, от которого разбегались в ужасе и умеренные профессора, – превратили седого “профессора” в косвенного участника клеветы; пока над Эллисом разражалась беда, комиссия по расследованью “преступленья” сурово молчала, укрепляя мысль многих о том, что материал к обвинению, должно быть, есть.
На Эллиса рушились: и личные счёты министра с Цветаевым, и ненависть последнего, и ненависть почти всех писателей за “весовские” манифесты; оповещение о воровстве печаталось на первой странице; оно облетело в два дня десятки провинциальных газет; а опровержения не печатались; через два месяца постановление третейского суда, снявшего с Эллиса клевету, было напечатано пётитом на четвёртой странице “Русских ведомостей”; и осталось не перепечатанным другими газетами; и тот факт, что судебное следствие прекратило “дело” об Эллисе вслед за следствием музейной комиссии, и тот факт, что третейские судьи (Муромцев, Лопатин и Малянтович) – признали Эллиса в воровстве невиновным, – не изменили мнения: казнили не “вора”, – сотрудника журнала “Весы”.
Не забуду дней, проведённых в Москве; я с неделю метался: от А. С. Петровского к скульптору Крахту, от Крахта к С. А. Полякову, в “Весы”; из “Весов” – в музей; оттуда – к Эллису, к Шпетту, к Астрову; Эллиса ежедневно таскали на следствие: в комиссию при музее; а элемент, мною названный “обозною сволочью”, неистовствовал во всех российских газетах, взывая к низменным инстинктам падкой до сенсации толпы; гадючий лозунг: “Все они таковы” – раздавался чуть не на улице, где сотрудников “Весов” ели глазами; передо мною вставала картина толпы, убивающей Верещагина (“Война и мир”); нас прямо ставили вне закона, особенно тогда, когда закон дело прекратил, а где-нибудь в Харькове, Киеве и т. д. продолжали писать:
– “Эллис – вор!”»
(А. Белый. «Между двух революций». С. 330–331)
Стихи о Москве
– Москва! – Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси – бездомный.
Мы все к тебе придём.
Клеймо позорит плечи,
За голенищем нож.
Издалека-далече
Ты всё же позовёшь.
На каторжные клейма,
На всякую болесть –
Младенец Пантелеймон
У нас, целитель, есть.
А вон за тою дверцей,
Куда народ валит, –
Там Иверское сердце
Червонное горит.
И льётся аллилуйя
На смуглые поля.
Я в грудь тебя целую,
Московская земля!
Тогда, летом 1909-го, Марина училась на курсах французской литературы в Париже. Она ещё только начинала «жить так, как пишу: образцово и сжато, - как Бог повелел и друзья не велят». Эллису, первому в её жизни поэту, приходили письма:
«Париж, 22-го июня 1909 г.
Милый Лев Львович! У меня сегодня под подушкой были Aiglon и Ваши письма, а сны – о Наполеоне – и о маме. Этот сон о маме я и хочу Вам рассказать. Мы встретились с ней на одной из шумных улиц Парижа. Я шла с Асей. Мама была как всегда, как за год до смерти – немножко бледная, с слишком тёмными глазами, улыбающаяся. Я так ясно теперь помню её лицо! Стали говорить. Я так рада была встретить её именно в Париже, где особенно грустно быть всегда одной. – “О мама! – говорила я, – когда я смотрю на Елисейские поля, мне так грустно, так грустно”. И рукой как будто загораживаюсь от солнца, а на самом деле не хотела, чтобы Ася увидела мои слёзы. Потом я стала упрашивать её познакомиться с Лидией Александровной. “Больше всех на свете, мама, я люблю тебя, Лидию Александровну и Эллиса” (“А Асю? – мелькнуло у меня в голове. – Нет, Асю не нужно!”) “Да, у Лидии Александровны ведь кажется воспаление слепой кишки”, – сказала мама. – “Какая ты, мама, красивая! – в восторге говорила я, – как жаль, что я не на тебя похожа, а на…” хотела сказать “папу”, но побоялась, что мама обидится, и докончила: “неизвестно кого! Я так горжусь тобой”. – “Ну вот, – засмеялась мама, – я-то красивая! Особенно с заострившимся носом!” Тут только я вспомнила, что мама умерла, но нисколько не испугалась. – “Мама, сделай так, чтобы мы встретились с тобой на улице, хоть на минутку, ну мама же!” – “Этого нельзя, – грустно ответила она, – но если иногда увидишь что-нибудь хорошее, странное на улице или дома, – помни, что это я или от меня!» Тут она исчезла. Сколько времени прошло – я не знаю. Снова шумная улица. Автомобили, трамваи, омнибусы, кэбы, экипажи, говор, шум, масса народа. Вдруг я чувствую, что за мной кто-то гонится. Мама? Но я боюсь, значит не она. Что-то белое настигает меня, хватает и душит. Перехожу через улицу. Прямо на меня трамвай. Я ухожу с рельс, иду в противоположную сторону, а трамвай за мной.
Освободившись наконец от него, вижу насторожившийся автомобиль, выжидающий, куда я двинусь, чтобы кинуться за мной. Тут я начинаю понимать, что что-то здесь неладно. Я вижу, что кто-то узнал наш с мамой уговор и хочет меня наставить против мамы, хочет, чтобы я, напуганная преследованием вещей и неприятными неожиданностями, наконец сказала: “Оставь меня в покое!” Я поняла также, что мама бессильна предупредить меня и теперь мучается. Перехожу на другой тротуар. Вечереет. Около стены с афишами стоят трое людей – маленькая старушонка, ребёнок и старик. Я начинаю говорить о маме, но старуха ничего не понимает, не слышит. Я начинаю думать, что мне только кажется, будто я говорю. Вдруг я стою перед ней и шевелю губами? Как только я это подумала, мне стало ясно, почему она меня не слышит, но всё же я продолжала мысленно мою фразу, которая кончалась словами “уничтожить”. Моя старуха в то же мгновение вынимает из кармана мел и пишет на стене “уничтожить”, то есть не произнесённое мною слово. Тогда я начинаю расспрашивать её: “Вы знали маму? Вы любили её?” – “Подленькая она была, прилипчивая, – шипит старушонка, – голубка моя, верь мне”. В её шепоте что-то заискивающее, хитрое и вместе с тем робкое. Тогда я обращаюсь к стоящей за мной барышне – высокой, в голубом платье и pince-nez – и упавшим голосом спрашиваю её: – “А что думаете о маме Вы?” – “У неё было очень много книг, оттого ей все завидуют”, – неопределённо отвечает барышня. – “Мама была прямая как верёвка, натянутая на лук! – кричу я звенящим и задыхающимся от негодования и огромного усилия голосом, – она была слишком прямая. Согнутый лук был слишком согнут и, выпрямляясь, разорвал её!»
(М. Цветаева. Письма. Т. 6. С. 31–33)
Прыжками через три ступени
Взбегаем лесенкой крутой
В наш мезонин - всегда весенний
И золотой.
Где невозможный беспорядок -
Где точно разразился гром
Над этим ворохом тетрадок
Ещё с пером.
Над этим полчищем шарманок,
Картонных кукол и зверей,
Полуобгрызанных баранок,
Календарей,
Неописуемых коробок,
С вещами не на всякий вкус,
Пустых флакончиков без пробок,
Стеклянных бус,
Чьи ослепительные грозди
Clinquantes, ;clatantes grappes -
Звеня опутывают гвозди
Для наших шляп.
Садимся - смотрим - знаем - любим,
И чуем, не спуская глаз,
Что за него себя погубим,
А он - за нас.
Два скакуна в огне и в мыле -
Вот мы! - Лови, когда не лень! -
Мы говорим о том, как жили
Вчерашний день.
О том, как бегали по зале
Сегодня ночью при луне,
И что и как ему сказали
Потом во сне.
И как - и мы уже в экстазе! -
За наш непокоримый дух
Начальство наших двух гимназий
Нас гонит двух.
Как никогда не выйдем замуж,
- Taк и останемся втроём! -
О, никогда не выйдем замуж,
Cкорей умрём!
Как жизнь уже давным-давно нам -
Сукно игорное: - vivat!
За Иоанном - в рай, за доном
Жуаном - в ад.
(М. Цветаева. «Чародей»)
Благодаря Эллису, Марина Цветаева вошла в литературные круги Москвы. Встречи с ним она описала позднее в поэме «Чародей» (1914), однако после инцидента с библиотечными книгами отец запретил «разбросанному поэту» появляться в его доме.
– Может быть папа на несколько дней уедет в Петербург. Если это будет, – известим Вас.
Профессор И. В. Цветаев, сын бедного сельского священника, учившийся при лучине, приобретал для Музея Изящных Искусств коллекции египтолога В. С. Голенищева и занимался их перевозкой в Москву. Дочери Марина и Ася по отъезду его встречались с какими-то очень странными молодыми людьми… Почему они не удосужились закончить хотя бы гимназический курс обучения?
– Семейная жизнь мне не удалась, зато удалось служение Родине, – скажет он в самый разгар торжеств по случаю открытия Музея, ныне носящего имя А. С. Пушкина. От казённой квартиры, положенной ему, как директору, он отказался и сделал из неё четыре квартиры для мелких служащих.
Так и остались они в современности: И. В. Цветаев – дух Музея, фабрикант-меценат Ю. С. Нечаев-Мальцов – тело Музея. Умер И. В. Цветаев через год, не завершив научный труд о храмах Древнего Рима, но оставив Москве – Музей, а России – Марину.
Стихи о Москве
Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья,
Я родилась.
Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.
Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.